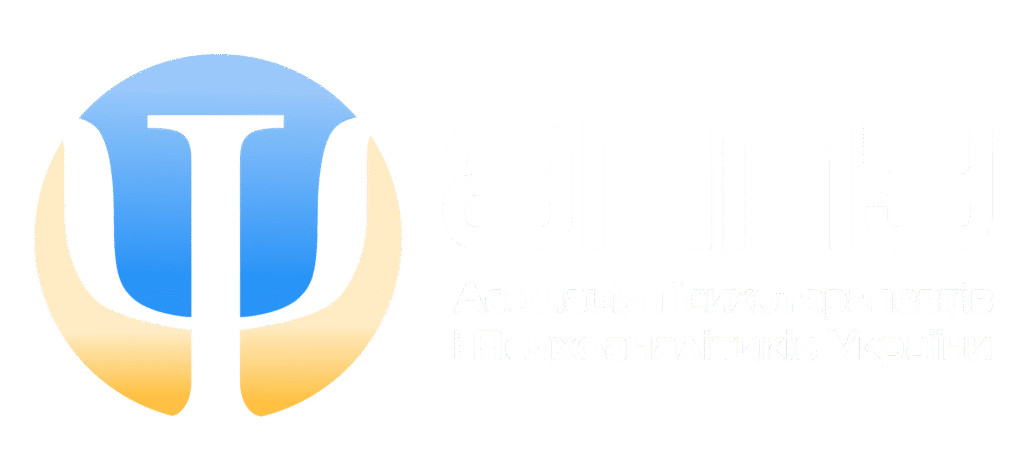"Бесплодные усилия любви. Теория и практика психотерапии сегодня, или новая схоластика смутного времени."

Автор: Тарас Левин
Глава секции ГПП АППУ, делегат от Украины в EFPP, психиатр, психотерапевт, тренинг аналитик и супервизор АППУ по групповому анализу, врач-психотерапевт Центра психотерапии и психосоматических расстройств КБ “Феофания”.
27.08.2021
«Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие — гасить свое собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне; они погребли и скрыли себя под грудами ухищрений (…) Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя; в мире нет ничего прекраснее их (…) Что им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми? Им дано, и они знают больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить и оживить таящиеся в них способности.»
Мишель Монтень «Опыты»
«Вот так порой, и в этом нет сомненья,
Кичливость порождает преступленья.
Меняем мы на почести и лесть
То лучшее, что в нашем сердце есть.
И лань я из тщеславия убью,
Хоть к ней ни капли злобы не таю.»
Вильям Шекспир «Бесплодные усилия любви»
Мы живем с вами в странное, смутное время. Человеческая раса словно опара, в которую пересыпали дрожжей, забродила, взошла и вываливается из своей кадушки. Едва ли за последние десятки лет нас стало так уж много числом, скорее в разы усилилось ощущение многочисленного присутствия. Теперь не нужно далеко ходить, чтобы почувствовать прикосновение к струнам своей души. Похоже, канули в Лету те времена, когда требовалось сойтись с человеком, чтобы пережить неловкость сближения или боль отстраненности, ощутить зуд любопытства или холодность безразличия, ласкающее тепло приязни или обжигающую волну враждебности. Не осталось ни пространства, ни времени для того, чтобы предвкушать предстоящую встречу или тревожиться о ней, а потом переваривать наедине с собой впечатления от произошедшего. Теперь эти люди всегда рядом, не дальше, чем на расстоянии сжимающей смартфон вытянутой руки. Все семь миллиардов, или сколько их есть, не оставляют ни на минуту, толкаясь и напирая назойливой шумной толпой, преследуя повсеместно, не исключая спальни и даже туалета. Их нестройный оглушительный гам звучит в подкастах и лентах новостей, неудержимым потоком льется со страниц социальных сетей и стриминговых сервисов, непрерывно кричит с рекламных щитов, телевизионных экранов и компьютерных мониторов, готов ворваться с нажатием каждого красного флажка неотвеченного вызова, текстового сообщения или электронного письма. Навязчивое, неотступное, будоражащее присутствие. Изощряясь в самых неожиданных приемах, они все чего-то хотят, чего-то требуют, куда-то зовут, к чему-то склоняют. Как голодные духи, лишенные телесной оболочки, протискиваются к самому нутру, выдавливая из него последние неизрасходованные остатки эмоционального отклика, чтобы получить внимание, признание и, главным образом, для того чтобы что-нибудь продать. Самого человека, которого они осаждают так бесцеремонно, они едва знают, и не хотят знать. Они слишком заняты собой и своими делами. У них нет на это ни терпения, ни желания, ни времени. Голос, прозвучавший хотя бы из самой глубины души, тонет во всеобщем игнорировании, или, в лучшем случае, вызывает в ответ бессвязный неискренний галдеж, за которым следует быстрое забвение. Уединение превратилось в миф, одиночество стало единственной доступной реальностью.
Немецкий социолог Норберт Элиас, оказавший значительное влияние на теорию группового анализа, в своем наиболее известном труде «О процессе цивилизации» обосновал наличие определенного вектора цивилизационного процесса. С точки зрения Элиаса, это вектор, ведущий от относительной самодостаточности индивида ко все более возрастающей взаимозависимости между людьми. На заре цивилизации нужды индивида продиктованы по преимуществу целями физического выживания, а в их удовлетворении индивид полагается в основном на себя и на ближайшее немногочисленное окружение. С ростом же численности населения, его концентрацией в городах и сопутствующим разделением труда, индивид уже не может полагаться на себя в удовлетворении своих потребностей и все больше зависит от других людей. Сами потребности индивида выходят все дальше за рамки естественных, все больше обусловливаются сообществом и приобретают все более символический характер. Происходит постепенное удлинение и усложнение цепочек взаимозависимости между людьми, что в свою очередь ведет к сменам общественных формаций. Следует подчеркнуть, что изменения в ходе цивилизационного процесса затрагивают не только структуру социальных отношений. Они также происходят на уровне аффективной организации индивида. Проведя сравнительный анализ западноевропейской литературы по придворному этикету, и тех перемен, которые отмечались в требованиях этикета на протяжении 300 лет от высокого до позднего средневековья, Элиас показал, что индивид не только подвергался все большему давлению запретов, связанных с физиологическими отправлениями, проявлениями агрессии и сексуальности, но и претерпевал постепенную интернализацию этих запретов, которые со временем из внешних превратились во внутренние и, наконец, в бессознательные.
Все то, что прежде сопровождалось наибольшим наслаждением, позволяло ощутить полноту, радость и ценность жизни, теперь стало источником мучительного стыда, вины или страха. Истязание беспомощной жертвы, жестокая битва с врагом, нанесение увечий и убийство, страстное совокупление, вызванное первым натиском соблазна или насилие, спровоцированное отказом – мы считаем теперь это дикостью, мы не отдаем себе отчета в таких побуждениях, хотя и не можем оторваться от кинофильма, в котором наблюдаем со стороны те движения души, которые сами перестали в себе ощущать. Удовольствие от контакта с другим, тем более полное, чем большим качеством тактильности оно обладает, превратилось в свою противоположность. Теперь мы испытываем дискомфорт от физической близости с людьми, нам неприятны потные объятия, влажные рукопожатия и острые запахи давно немытого тела. Мы внимательно следим за личной гигиеной и чрезвычайно осмотрительны в том, чтобы телесные выделения не достигали чьих-либо органов чувств, в том числе и собственных. Мы не вольны чихнуть, сморкнуться или выпустить газы. Ощутив позывы к испражнению, мы бежим в потайные места, холодея от ужаса, что можем не утерпеть и очутиться в положении невыносимого позора. Наша жизнь стала бесцветной и обескровленной, ощущение контакта с другими и с самими собой приобрело характер некоторой условности, почти эфемерности. Вознаграждение за эти потери – большая безопасность, большая толерантность к различиям, большее количество контактов и связей с другими людьми, возможность поддерживать свою интеграцию в сложной системе общественных взаимоотношений, способность к рациональным перемещениям по рельсам этой системы.
Такие приобретения дались индивиду немалой ценой. Преобразование аффективной сферы под давлением социальных требований, по сути, представляет собой насилие над естеством, изгнание его в самые темные закоулки души и удержание там под семью запорами. Зато теперь мы не испытываем острой потребности сплетаться с заклятым врагом в яростной схватке, проворачивать кинжал, вонзая его в живую плоть и пожирать вырванное из груди, еще бьющееся сердце на глазах у поверженного, испускающего дух противника. Мы способны вежливо улыбаться людям, которых ненавидим и непринужденно беседовать с ними о погоде. Более того, мы можем даже не чувствовать к ним сильной неприязни, а становясь при случае свидетелями их страдания, в ответ испытываем чаще растерянность, тревогу, даже сочувствие, но крайне редко – ликование и торжество. История индивида в цивилизационном процессе напоминает историю киплинговского слоненка, которого крокодил схватил за нос и тащил в свое болото, надеясь поживиться, а слоненок упирался и тянул в обратную сторону, не желая быть съеденным. Когда слоненок наконец вырвался на свободу, его нос был навсегда искалечен, но зато превратился в хобот, оказавшийся чрезвычайно полезным приспособлением. Природная аффективная организация индивида была деформирована цивилизационным процессом до неузнаваемости. Тем не менее, именно благодаря этой деформации индивид приобрел необходимый инструмент выживания в социуме, где люди нередко недолюбливают друг друга, но продолжают приносить друг другу некоторую пользу и воздерживаться от чрезмерного вреда, пусть не всегда по доброте душевной, а понукаемые сетью общественных связей, в которой подвешены, словно марионетки.
Едва ли можно утверждать, что преобразование психического аппарата под давлением социальной обусловленности на сегодня благополучно завершилось. Скорее мы продолжаем переживать переходный период, т.к. изменения в психической организации индивидов меняют структуру социальных отношений того общества, которое эти индивиды составляют, а новая социальная формация, в свою очередь воздействует на индивидуальную психическую структуру. Только благодаря тому, что этот процесс растянут на сотни лет и десятки поколений, мы пребываем в иллюзии, что душевное устройство человека неизменно, и что его среднестатистическая норма является здоровой и адаптивной. Гнет социальных требований и вызванные им деформации индивидуального психического аппарата не проходят бесследно. Важно отдавать себе отчет в том, что наша аффективность – сфера, тесно связанная с физиологией, – досталась нам в наследство еще от рыб и рептилий, т.е., становление этой сферы насчитывает сотни миллионов лет. Даже в пределах истории одного нашего вида Homo Sapiens, сотни тысяч лет жившего однообразным примитивным общественным укладом, аффективность не претерпевала существенных изменений. На фоне таких эволюционных масштабов нынешний цивилизационный скачок, за считанные тысячи лет кардинально изменивший наше душевное устройство, предстает внезапным и сильным потрясением, а головокружительный виток цивилизационного развития последних веков по праву можно назвать сокрушительным катаклизмом.
Таким образом, душевная неустроенность индивида вызвана не только и не столько патологическими отклонениями от психической нормы, сколько тем, что именно вариант психической нормы представляет собой наполовину удавшуюся эволюционную попытку быстрого приспособления к экстремальным внешним воздействиям. Достаточно короткое время поработать психотерапевтом, или просто вдумчиво понаблюдать за собой и людьми, чтобы убедиться в том, что внутренний конфликт, упорство в явных заблуждениях, дисгармония в сфере отношений, навязчивое повторение дезадаптивных поступков и даже клинически значимая невротическая симптоматика – достояние не одних только пациентов, а всех людей без исключения.
Таков краткий итог приспособления к недавним (3-4 тысячи лет) изменениям социальных условий. Обширные области собственной душевной жизни нам чужды, неведомы и недоступны. Мы расходуем немалое количество энергии на то, чтобы удерживать напряженное содержание этих областей вне сфер осознания и деятельности. Нам это плохо удается, так как при определенных обстоятельствах вытесненное содержание довольно легко обрушивает все преграды и уже не раз погружало полмира в кровавый хаос и безумие. Что касается прочих пределов души, которых луч разума способен достигнуть, то и там едва ли все благополучно. И в этих пределах мы разъединены сами в себе, пребываем с самими собой в постоянном разладе, сами себя не знаем, не понимаем, чего хотим, страдаем, получив желаемое, и радуемся, причиняя себе вред. Вечно недовольны собой и окружающими, тоскуем о несбыточном и проводим жизнь в тщетных попытках вернуть себе что-то утраченное, о чем не имеем ясного представления.
Похоже, единственная возможность хоть какой-то внутренней интеграции и хотя бы относительной гармонии для существ, социально обусловленных и зависящих от социального окружения – это наполненное смыслом взаимодействие с себе подобными, обеспечивающее содержательный эмоциональный обмен с вовлечением наиболее широкого спектра эмоциональных проявлений. Мы узнаем себя в своих отражениях в глазах других людей. Мы открываем для себя пугающие, запретные и постыдные области своей души через узнавание, отождествление и принятие другими. Мы утверждаем собственное Я, влияя на окружающих и раскрываем свой потенциал под воздействием эмоционально заряженных стимулов, полученных от окружения.
Этот путь к достижению полноты и равновесия душевной жизни пока остается для нас открытым. Несмотря на серьезные ограничения в выражении аффективности, межличностный контакт сохранил присущие ему качества давления, плотности, электрического разряда. По-видимому, это связано с тем, что столетиями мы совершенствовались не только в сдерживании проявлений собственных эмоциональных посылов и откликов, но и в искусстве распознавания скрытых, едва заметных стимулов, которые транслируют нам окружающие. Доисторический человек, полностью зависевший от естественной среды обитания, вероятно, мог тонко различать множество запахов и звуков. Ему о многом, наверное, говорили примятая трава на звериной тропе, шорох в кустах, гул ветра и цвет облаков. Точно так же, современный человек, зависящий от социального окружения, чрезвычайно чуток к эмоциональному состоянию других людей. Наше восприятие работает как сверхчувствительный приемник и усилитель. Едва заметное движение брови собеседника, еле уловимый наклон головы или тень складки, мелькнувшая в углу рта, заставляют в нашей груди звучать целый оркестр, исполняющий собственную трактовку сложной симфонии душевной жизни другого человека.
Отчего же так происходит, что мы все реже стремимся воспользоваться замечательной возможностью обрести гармонию и смысл, живя среди такого множества людей, которые нам способны ее обеспечить? Почему наши контакты с людьми все чаще сводятся к достижению прагматических целей, и мы так придирчиво ограждаем общение от «лишних» эмоций? Почему даже с близкими и родными мы склонны поддерживать мелкий, поверхностный эмоциональный обмен, и порой с удивлением замечаем, что годами живем под одной крышей с людьми, которых едва знаем и не слишком хотим понимать?
На мой взгляд, злую шутку с нами сыграла способность к символизации – то свойство человеческой психики, которое, по-видимому, и определяет нас как биологический вид. Благодаря этому свойству мы можем представлять вещи, воображать их и устанавливать взаимоотношения не с реальными вещами, а с предметами нашего воображения. Это свойство имеет глобальные следствия – по сути, ему мы обязаны наличием у нас культуры, науки, искусства и социального устройства. В то же время, способность к символизации стирает четкие грани реальности. Проецируя образы собственной фантазии на мир – людей, прочих живых существ, неживые объекты и даже чистые абстракции, – мы постоянно воспринимаем окружающее по меньшей мере в очень искаженном виде, а то и вовсе живем в мире спродуцированной нами коллективной галлюцинации. Разум не знает преград в создании иллюзорных миров и вполне довольствуется пребыванием в них, не слишком заботясь о том, что реально, а что нет. Он предлагает эмоциям разделить с ним существование в призрачном мире, словно хозяин, кидающий голодному псу резиновую кость с ароматом свинины. Это может сработать на время, и пес, пуская слюни, будет грызть подачку, совсем как настоящую. Но если пса кормить резиной постоянно, в один прекрасный день он озвереет и сожрет хозяина.
Эмоциональная сфера, эволюционно более древняя, близкая к физиологии и коренящаяся в материальном субстрате, подкрепляет измышления разума, сообщая им привкус чего-то настоящего. Но также как тело не может бесконечно игнорировать боль, голод или жажду, так и эмоции невозможно без конца насыщать пустышкой.
Однако, мы все больше пренебрегаем этой простой истиной и продолжаем запихивать в себя символы довольства, не берясь за труд добывать те вещи, которые приносят реальное удовлетворение. Мы все больше склонны устанавливать эмоциональные отношения не с живыми людьми, а с тем, что Трайгент Барроу называл социальными имаго. Живым людям остается второстепенная роль посредников, с которыми мы более-менее прочно отождествляем социальные имаго, и которые в этой роли вполне заменимы и инструментальны. Поскольку едва ли не единственная компенсация за подавление агрессивности и сексуальности, которую может предложить культура, заключается в гордости индивида, обуздавшего свое животное наследие, и в социальном признании его за это достижение, то и большинство социальных имаго ориентировано именно на гордость и признание. Деньги и власть, награды и отличия, должности и титулы, звания и дипломы, известность и почет – все эти общественные условности, символы собственной значимости, исключительности и успеха в нашем воображении приобретают реальное существование и подменяют действительное отношение окружающих к тому, чем мы являемся на самом деле. Тесное взаимодействие в кругу живых людей сообщает твердую меру нашим достоинствам, позволяет занять в этом круге прочное место, соответствующее нашим реальным качествам. Признание же, полученное путем отождествления с социальными имаго успеха, всегда отличают чувства неполноты, обмана, фальши. В переживании своих сущностных характеристик, которые не получили прямого подтверждения от окружающих, преобладает неуверенность, зависть и стыд. Болезненность этих переживаний заставляет избегать глубокого контакта с людьми и сильнее раскручивает маховик амбиций в погоне за новыми символами успеха.
Такое положение дел серьезно усугубилось в течение последних десятилетий с развитием информационных и коммуникативных технологий. Количество контактов между людьми выросло экспоненциально. Возможность выбора в этих контактах практически утратила всякие ограничения. Содержание контактов все больше сводится к презентации символов успеха в поисках признания. Получение признания становится единственным критерием качества контакта. Невероятное изобилие презентаций успеха, которые попадают сегодня в поле зрения индивида, заставляет острее чувствовать собственную ничтожность и заурядность, побуждает громче заявлять о собственном успехе и значимости в этой кричащей виртуальной толпе. Предоставлять другим требуемое ими признание нас, как правило, побуждает необходимость поддержания связи, в которой мы рассчитываем на то, что признание будет взаимным. Так, нередко, мы ставим «лайк» посту кого-нибудь из тысяч фейсбучных друзей не потому, что искренне одобряем содержание этого поста, а потому, что хотим лишний раз заявить о себе, или боимся невниманием или сдержанным ответом обидеть автора. Ядро личности в таком нарциссическом обмене остается незатронутым. Испытывая дефицит валидации в своих сущностных аспектах, мы одинаково сильно страдаем и от игнорирования, и от признания, поскольку последнее относится только к внешней, показной стороне нашей личности. Мы одновременно испытываем избыток раздражающей, возбуждающей, соблазняющей внешней стимуляции и острый недостаток стимулов, способных достичь сердцевины, которая переполняется чувствами беспомощности, неполноценности и зависти. Прикосновения к ядру личности, особенно в современном мире, где все частное так легко оказывается публичным, бывают чреваты настолько сокрушительным стыдом, что мы избегаем этих прикосновений, как бы сильно в них ни нуждались.
Эмоциональную сферу индивида в такой коммуникативной среде можно сравнить со вздувшейся, отечной, кровоточащей экземой. Слабые прикосновения к ней не могут утолить мучительного зуда, а сильные вызывают только боль. В самой коммуникативной среде происходит нечто вроде слипания индивидов в более или менее крупные агломерации по неким внешним, произвольным и зачастую случайным признакам. Едва ли людей приводят в те или иные идеологические, политические, религиозные, профессиональные, тематические и другие сообщества прочные, выстраданные личные убеждения. Скорее, основой мотивации является опыт переживания принадлежности и взаимного признания, а убеждения подстраиваются следом и могут легко меняться на прямо противоположные вместе с колебаниями общего мнения или с переходом индивида в другое сообщество.
Социальная жизнь в таких агломерациях сводится к пассивному, молчаливому пребыванию или к любовному обмену знаками внимания. При высокой степени когезии такие группы отличаются слабой когерентностью, т.к. содержательный межличностный обмен в них заблокирован. Трения, вызванные различиями внутри группы, и конфронтации между ее участниками, связанные с негативными эмоциями, затруднены и редко находят прямое выражение, разрешение и интеграцию. Свободное выявление мнений, эмоций и многообразных аспектов отношения встречает низкий порог терпимости и вызывает чрезмерный страх. Переживание негативных эмоций – обиды, гнева, зависти, ревности – имеет характер нарастающего напряжения с периодическими вспышками, ведущими к потере связи. Ядовитые компоненты душевной жизни индивидов не столько встраиваются в коммуникацию с другими индивидами, где могут быть нейтрализованы другими аспектами отношения, сколько эвакуируются путем проекции и проективной идентификации в общегрупповую среду, которая в целом переживается как все более токсичная. Действия, поступки в отношении других индивидов, несущие заряд собственной деструктивности, редко сознаются, так как не встречают адекватной обратной связи, которая подвергала бы их коррекции.
Что касается деструктивности, то она нарастает повсеместно в геометрической прогрессии. Можно ли ожидать другой динамики в культуре, которая способна только гордостью и признанием компенсировать индивидам отказ от агрессии, а вместо этого вынуждает индивидов испытывать беспомощность, малозначимость и стыд? До определенной степени индивид может эвакуировать плохо сдерживаемую агрессивность, отождествив себя с какой-либо социальной подгруппой, которая направляет свой деструктивный потенциал на какую-нибудь другую социальную подгруппу. Мы наблюдаем сегодня, какой бескомпромиссной, убийственной яростью или отвержением люди реагируют на тех, кто отличается от них по какому-нибудь признаку – национальной или расовой принадлежности, гендерной идентичности или сексуальной ориентации, политическим взглядам или вероисповеданию. Характер таких взаимодействий указывает на то, что отстаивание убеждений мотивировано не столько поиском истины и справедливости, сколько потребностью заявить о себе и выплеснуть накопившийся гнев. Однако, век глобализации не оставляет нам шансов для утешения в бионовской позиции борьбы-бегства. Мир стал слишком мал и тесен, а мы в нем слишком зависимы друг от друга, чтобы позволить себе уничтожать кого-либо, не причиняя вред самим себе.
Когда ткань поражена воспалительным процессом, который не может прорваться вовне, она склонна к нагноению и разрушению себя изнутри. Ткань социальных связей и отношений, воспаленная непереработанными обидой, гневом и завистью, начинает расслаиваться, теряет устойчивую иерархическую структуру и дифференцировку. Из организованного общества, подчиненного закону и порядку, мы превращаемся в стихийную толпу, где каждый снует, пытаясь выгадать что-нибудь для себя на мелкой меновой торговле и внимательно следя лишь за тем, чтобы не отдавить ненароком кому-нибудь ноги и самому не оказаться затоптанным. В коммуникативной среде, ориентированной на поверхностное признание и нетерпимой к фрустрациям, любая попытка привнесения порядка неизбежно выхолащивается в формализм, любая деятельность к общественному благу вырождается в показуху, а личная деятельность обречена сводиться к наживе. Наша общественная жизнь полна парадоксов. Мы остро нуждаемся в прочных социальных имаго успеха, но при этом сами способствуем их девальвации. Мы храним в себе сильную латентную заинтересованность в бездарных лидерах и невежественных авторитетах и склонны уступать дорогу к высокому социальному статусу не тем, кто обладает необходимыми для этого качествами, а тем, кто отличается наибольшим рвением и неумеренными амбициями. Так, завидуя высокому общественному положению человека недостойного, мы оставляем за собой право изливать на такого человека потоки презрения. Высокий же социальный статус достойного человека оставляет нас наедине с собственной завистью. Очевидно, по той же причине набольшее признание на пространствах интернета получает именно самая нелепая чепуха, и мы охотно награждаем миллионами просмотров чье-то злобное ерничанье, нарочитую вульгарность или безответственный эпатаж.
Но в этом месте мне следует закончить затянувшееся предисловие и перейти непосредственно к теме моего доклада, а именно, к теории и практике современной психотерапии – сфере деятельности, которая в текущей социальной ситуации пользуется растущим спросом. С учетом вышесказанного, мне остается добавить совсем немного. Я далек от мысли, что мы, психотерапевты, в ходе профессиональной подготовки становимся обладателями некоего «особого» знания или получаем некие преимущества по сравнению с прочими людьми за счет «особой» личностной проработки. Являясь продуктом и неотъемлемой частью общесоциальной матрицы, мы подвержены воздействию тех же силовых полей и магнитных завихрений, что и все общество в целом. Не исключаю, что мы подвержены этому воздействию даже в большей степени, поскольку долгое пребывание в лучах переносных реакций пациентов слишком соблазняет нас к тому, чтобы принимать иллюзорный ореол собственного величия за должную дань нашим реальным достоинствам. К тому же, открываться себе и другим в своих злых, дефицитарных и болезненных аспектах сопряжено с гораздо большим стыдом для нас, претендующих на роль врачевателей душ.
В том, как устроена наша профессиональная среда, можно найти немало подтверждений справедливости моей точки зрения. Психотерапевтическое поле, как и общесоциальное, больше походит на напряженный, переменчивый хаос, чем на упорядоченную структуру. В нем так же выражена лихорадочная погоня за формальным подтверждением своего профессионального статуса, которая никогда не увенчивается прочным успехом. В нем так же происходит слипание в групповые агломерации, где приверженность теоретическим взглядам той или иной школы, или уставным целям той или иной общественной организации оказывается несущественным и вторичным мотивом по сравнению с потребностью в какой угодно принадлежности. Мы так же страдаем от неудовлетворяющих коммуникаций, в которых немало враждебности, отвержения и игнорирования, а признание зачастую поверхностно и неискренне. Нам так же душно в атмосфере сдавленной обиды, гнева и зависти, которую мы сами продуцируем.
Тем не менее, в текущей социальной ситуации именно психотерапия становится той областью знания, которая способна, хотя бы отчасти, нивелировать побочные эффекты небывалого цивилизационного рывка, который нам доводится переживать. На мой взгляд, значение психотерапии уже давно и довольно далеко вышло за узкоспециальные рамки лечения пациентов с психическими расстройствами. В условиях глобализации, информационного бума и головокружительного прогресса технологий среднестатистический человек с поразительной скоростью теряет контакт с важными аспектами собственной личности и утрачивает навык эмоционально наполненной, удовлетворяющей коммуникации с окружающими. Если еще вчера нам пришлось находить специальные место и время для физических упражнений, чтобы сохранить здоровье тела, обездвиженного цивилизацией, то уже сегодня нам приходится искать специальные место и время для упражнения ожиревшей, атрофированной души.
Что касается практики психотерапии, невозможность этого занятия состоит в том, что наши психотерапевтические желудки отвыкли от твердой, здоровой пищи. Как и все люди, мы хотим знать о себе и принимаем в себе только то, чем можно гордиться, и требуем от других безоговорочного признания собственной значимости. Как сладкоежки, страдающие сахарным диабетом, мы охотно кормим друг друга сиропом поверхностного признания, не заботясь о том вреде, который этим приносим. Я думаю, всегда стоит задаваться вопросом, в какой мере любой из инструментов терапевтического воздействия, который я в данный момент использую – будь то нейтральность, абстинентность, сеттинг или интерпретация – служит целям углубления коммуникации, развития и роста, а в какой направлен на утверждение собственной значимости и поиск признания. Терапевт, нежащий пациента в облаке заботы и принятия, угодливо подлаживающий свою рабочую рамку под его нужды, проваливающийся на сеансах в задушевные беседы и любовный сговор с пациентом против «обидевших» его родителей, знакомых и домочадцев и избегающий в разговоре с пациентом острых углов и напряженных пауз, предпочитает не знать о том, какой вред наносит пациенту таким лечением, и какую дозу деструктивности от пациента получает сам, оставляя ее без анализа и проработки. Ничем не лучше в этом отношении терапевт, который использует абстиненцию и сеттинг для эмоционального отгораживания от пациента, а свою теоретическую осведомленность для утверждения собственного превосходства. Нейтральность такого терапевта скорее напоминает не сдержанность в суждениях, а бесстрастие Будды, вполне недосягаемого для волнующих пациента страстей. Восседая на своем аналитическом троне, терапевт нанизывает пациента глубокомысленными интерпретациями как поросенка на вертел, а пациенту остается лишь испытывать восторг от сопричастности величию своего патрона.
В нашей профессии есть немало соблазна к роли спасителя человечества или великого гуру, но для пользы дела я бы предложил сойтись на скромной роли тренера по эмоциональному фитнесу, который должен быть также требователен к себе, как и к своим подопечным.
Если говорить о психотерапевтической теории, то ее невозможность заключается в том, что, являясь необходимым фундаментом нашей деятельности, теория слишком легко становится инструментом избегания в непосредственном контакте с пациентом. Крайне трудно доверять тому сложному и напряженному эмоциональному отклику, который возникает у нас в ситуации терапии, и мы нередко торопимся укрываться под сенью заученных теоретических конструкций, предлагая пациентам вместо себя чужие мысли, непригодные для ускользающего момента живого общения.
Меня всегда поражало, как в эпоху средневековой схоластики ученые мужи сотнями лет пытались снабдить божественные откровения выверенной логической аргументацией, разрабатывали детальные описания устройства небесной канцелярии, вели философские диспуты на мертвых, никому, кроме них непонятных языках, доказывая истинность своих, вполне умозрительных, конструкций, и вколачивали розгами в своих учеников весьма сомнительное знание, заставляя их повторять заученное, не пропуская и не изменяя ни одной буквы догмата. Разве не делаем мы нечто подобное сегодня, утверждая трехчастное устройство человеческой души, ведя споры о том, к какому именно варианту личностной организации относится тот или иной индивид, отмечая успешное преодоление им шизоидно-параноидной позиции или доказывая наличие именно конкордантного, а не комплементарного контрпереноса в поле интерсубъективного взаимодействия?
С наступлением эпохи Возрождения в здание схоластической учености начала врываться живая, любознательная, творческая мысль, как будто солнечный свет и свежий воздух вошли в нежилое помещение, заставленное пыльной рухлядью. В центре внимания снова оказался Человек, обнаженный в красоте и уродстве, величии и ничтожестве, торжестве и отчаянии, смятенно ищущий примирения символического и животного в своей раздвоенной сущности. Я верю, что и для нас наступит такое Возрождение. Я также верю, что именно психотерапия поможет вернуть нам Человека и снова сделать его хозяином дома, который сегодня оказался захвачен призраками.
Тарас Левин
27.08.2021